4.06.2025, автор Сауле Исабаева.
«Нет ничего практичнее хорошей теории…». Что делать с наукой в Казахстане?
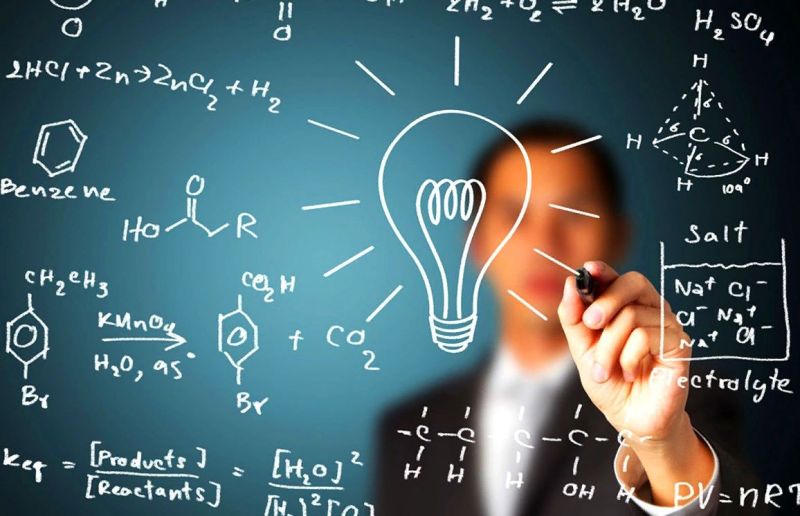
27.05.2025, автор Виктор Долгов.
RU
KZ
EN
Вопрос научно-технологического отставания Казахстана от 50 наиболее конкурентоспособных стран мира беспокоит политическое руководство в Акорде. Даже предпринят жест отчаяния – восстановлен статус Академии наук как структуры при президенте РК, создано профильное Министерство науки и высшего образования. И вроде бы все есть, но только прорывов в научном поиске нет. Михаилу Ломоносову приписывают крылатую фразу: «Музы – это такие девки, которых невозможно изнасиловать. Они любят только по собственному желанию». Так и чиновникам Казахстана пора бы понять, что административными мерами успехи в науке не достигаются. Тут талант нужен…
На протяжении почти трех с половиной десятилетий независимости данная сфера в нашей стране подвергалась бесконечному процессу реформирования под лозунгами адаптации к западным стандартам функционирования научных сообществ. При этом игнорировался опыт становления академической науки в Казахской ССР в середине – второй половине ХХ века.
А потому в рынок наша наука «не вписалась». Основные причины:
• Многие фундаментальные научные исследования велись в рамках всего СССР и с его распадом стали невостребованными;
• Научные коллективы не имели навыков коммерциализации своих результатов. Не было правовой базы защиты авторских прав и патентов;
• Темпы роста заработной платы в этой сфере – одни из самых низких в стране (даже ниже, чем в образовании и здравоохранении);
• Сфера науки понесла наибольшие потери из-за эмиграции квалифицированных кадров («утечка мозгов»).
В результате научная среда перестала быть значимой социальной стратой общества. Сегодня этим видом деятельности занимаются всего около 25 тысяч человек, из них около 9 тысяч – молодые ученые в возрасте до 35 лет. Они практически не влияют на общественные настроения, не являются лидерами общественного мнения для основной массы населения.
Имеются и существенные внутренние проблемы в управлении академическими исследованиями:
• В стране плохо налажена экспертиза научных направлений и исследовательских программ. В результате время и ресурсы тратятся на проведение научных исследований и разработок, которые либо уже давно реализованы в развитых странах, либо преследуют периферийные научные цели и имеют низкий практический КПД для народного хозяйства. Казахстанскому бизнесу легче купить готовые технологические решения за рубежом, чем ставить исследовательские и инженерно-конструкторские задачи перед местными специалистами.
• Наибольший урон в последние десятилетия понесло естествознание – самая затратная сфера научного поиска. Естественные науки базируются на проведении дорогостоящих экспериментов. Отдельные виды современного оборудования могут стоить сотни тысяч и даже миллионы долларов, что закрывает для казахстанских ученых целые направления исследований. Выходом стала кооперация с иностранными лабораториями – однако в таком случае и научные результаты (авторские свидетельства, патенты) тоже принадлежат иностранцам. Казахстанские ученые в данной ситуации выступают просто как «наемные высококвалифицированные лаборанты».
• «Вторичность» исследовательских задач из-за устаревания экспериментальной базы приводит к тому, что отечественная наука перестает генерировать конкурентоспособный научный продукт, который мог бы быть востребован экономикой. Например, еще в 2020 году, по данным рейтинга InCites базы данных Web of Science Core Collection, Казахстан занял лишь 74-е место в мировом рейтинге из 213 стран с публикационным массивом в 11559 научных статей (2018–2020 гг. – т.е. суммарно за три года).
• В сфере гуманитарных исследований ситуация иная – с одной стороны, нет потребности в дорогостоящем оборудовании, но, с другой, полученные в Казахстане результаты редко признаются на мировом уровне. Определенные исключения есть только в таких специфичных областях, как археология, – но только благодаря возможности проводить эксклюзивные раскопки на территории Казахстана. В результате наши ученые-гуманитарии «варятся в своем собственном соку», не выходят за узкие рамки внутренней повестки, направленной на решение не научных, а, скорее, идеологических задач.
Из-за длительной потери статуса Национальная Академия наук перестала выполнять функцию научной экспертизы реализуемых экономических и отраслевых программ развития. Развал обрабатывающей промышленности также обнулил запрос на перспективные технологические разработки профильных академических институтов. Низкие уровни зарплат в научной сфере постепенно вымывают перспективные кадры либо в другие профессиональные ниши, либо в эмиграцию.
Однако сама политическая повестка создания «Нового Казахстана», заявленная властями, предполагает ставку на качественный рост экономики за счет инноваций и диверсификации, предполагает стратегическую переоценку нынешнего сырьевого характера экономики. И в этом контексте только наука и инновации дают шанс Казахстану на выход за рамки сырьевого придатка развитых экономик.
Это в свою очередь требует изменения отношения власти к наиболее крупным экономическим игрокам – они больше не могут ориентироваться исключительно на внешние рыночные показатели. А следовательно, Акорде придется прийти к элементам планирования экономического и промышленного развития.
На протяжении почти трех с половиной десятилетий независимости данная сфера в нашей стране подвергалась бесконечному процессу реформирования под лозунгами адаптации к западным стандартам функционирования научных сообществ. При этом игнорировался опыт становления академической науки в Казахской ССР в середине – второй половине ХХ века.
Соответственно у отечественной науки (у всех академиков, членов-корреспондентов и прочая) не было опыта функционирования вне рамок государственного заказа, связанного с развитием народного хозяйства, либо военно-промышленного комплекса. Перед крупным казахстанским бизнесом тоже не стояла – и до сих пор не стоит – задача повышения производительности труда за счет инноваций.
А потому в рынок наша наука «не вписалась». Основные причины:
• Многие фундаментальные научные исследования велись в рамках всего СССР и с его распадом стали невостребованными;
• Научные коллективы не имели навыков коммерциализации своих результатов. Не было правовой базы защиты авторских прав и патентов;
• Темпы роста заработной платы в этой сфере – одни из самых низких в стране (даже ниже, чем в образовании и здравоохранении);
• Сфера науки понесла наибольшие потери из-за эмиграции квалифицированных кадров («утечка мозгов»).
В результате научная среда перестала быть значимой социальной стратой общества. Сегодня этим видом деятельности занимаются всего около 25 тысяч человек, из них около 9 тысяч – молодые ученые в возрасте до 35 лет. Они практически не влияют на общественные настроения, не являются лидерами общественного мнения для основной массы населения.
Имеются и существенные внутренние проблемы в управлении академическими исследованиями:
• В стране плохо налажена экспертиза научных направлений и исследовательских программ. В результате время и ресурсы тратятся на проведение научных исследований и разработок, которые либо уже давно реализованы в развитых странах, либо преследуют периферийные научные цели и имеют низкий практический КПД для народного хозяйства. Казахстанскому бизнесу легче купить готовые технологические решения за рубежом, чем ставить исследовательские и инженерно-конструкторские задачи перед местными специалистами.
• Наибольший урон в последние десятилетия понесло естествознание – самая затратная сфера научного поиска. Естественные науки базируются на проведении дорогостоящих экспериментов. Отдельные виды современного оборудования могут стоить сотни тысяч и даже миллионы долларов, что закрывает для казахстанских ученых целые направления исследований. Выходом стала кооперация с иностранными лабораториями – однако в таком случае и научные результаты (авторские свидетельства, патенты) тоже принадлежат иностранцам. Казахстанские ученые в данной ситуации выступают просто как «наемные высококвалифицированные лаборанты».
• «Вторичность» исследовательских задач из-за устаревания экспериментальной базы приводит к тому, что отечественная наука перестает генерировать конкурентоспособный научный продукт, который мог бы быть востребован экономикой. Например, еще в 2020 году, по данным рейтинга InCites базы данных Web of Science Core Collection, Казахстан занял лишь 74-е место в мировом рейтинге из 213 стран с публикационным массивом в 11559 научных статей (2018–2020 гг. – т.е. суммарно за три года).
• В сфере гуманитарных исследований ситуация иная – с одной стороны, нет потребности в дорогостоящем оборудовании, но, с другой, полученные в Казахстане результаты редко признаются на мировом уровне. Определенные исключения есть только в таких специфичных областях, как археология, – но только благодаря возможности проводить эксклюзивные раскопки на территории Казахстана. В результате наши ученые-гуманитарии «варятся в своем собственном соку», не выходят за узкие рамки внутренней повестки, направленной на решение не научных, а, скорее, идеологических задач.
Из-за длительной потери статуса Национальная Академия наук перестала выполнять функцию научной экспертизы реализуемых экономических и отраслевых программ развития. Развал обрабатывающей промышленности также обнулил запрос на перспективные технологические разработки профильных академических институтов. Низкие уровни зарплат в научной сфере постепенно вымывают перспективные кадры либо в другие профессиональные ниши, либо в эмиграцию.
Однако сама политическая повестка создания «Нового Казахстана», заявленная властями, предполагает ставку на качественный рост экономики за счет инноваций и диверсификации, предполагает стратегическую переоценку нынешнего сырьевого характера экономики. И в этом контексте только наука и инновации дают шанс Казахстану на выход за рамки сырьевого придатка развитых экономик.
Для этого властям мало просто довести уровень финансирования науки (совокупно и частного, и государственного секторов) до показателей высокотехнологичных развитых стран – 5% от размера ВВП (сейчас на науку в Казахстане в сумме расходуется около 1% ВВП). Важнее интегрировать научные институты в действующие экономические цепочки. А потребителями инноваций в стране могут и должны быть ведущие национальные компании.
Это в свою очередь требует изменения отношения власти к наиболее крупным экономическим игрокам – они больше не могут ориентироваться исключительно на внешние рыночные показатели. А следовательно, Акорде придется прийти к элементам планирования экономического и промышленного развития.
Похожие статьи
Если бы я стал министром обороны Казахстана…
Кампания против Бишимбаева имела четкий сценарий – Ермухамет Ертысбаев
24.06.2024, автор Сауле Исабаева.
Экономика Казахстана: под властью неоклассической теории. Часть 5-я, финальная
23.09.2024, автор Spik.kz.
Вечный доход: есть ли будущее у эндаумента в Казахстане?
27.02.2025, автор Сауле Исабаева.